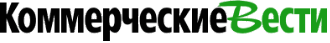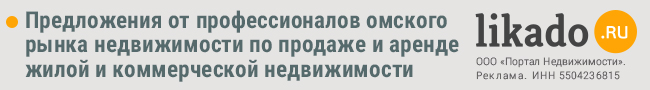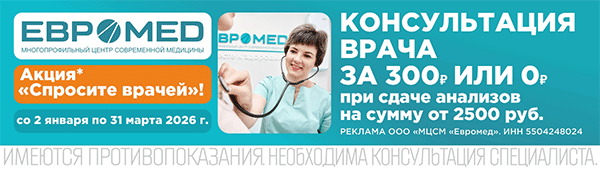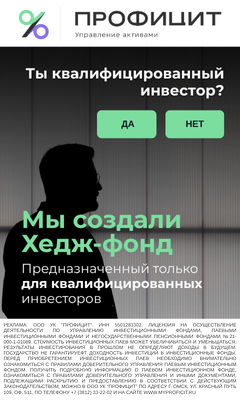В результате действий неоязычников была снесена часть неизвестного до того момента археологического памятника.
Находки археологов порой переворачивают представление современного человека о прошлом. В преддверии Дня науки обозреватель еженедельника «Коммерческие Вести» Анастасия ИЛЬЧЕНКО обратилась к заведующему Лабораторией историко-культурных экспертиз СО РАН Михаилу КОРУСЕНКО и узнала, кто и как финансирует омских археологов, зачем им нужна реставрация улиц в центре Омска и как неоязычники уничтожили часть древнего кургана.
– Михаил Андреевич, чем занимается Лаборатория историко-культурных экспертиз Омского научного центра СО РАН?
– Одно из главных направлений нашей деятельности – выполнение обследований земельных участков по хоздоговорам. Когда человек хочет что-то построить, проложить коммуникации, он обращается к нам. Мы выполняем историко-культурную экспертизу участка – осматриваем территорию на предмет наличия или отсутствия объектов историко-культурного наследия и памятников археологии.
– Сколько таких хоздоговоров в год выполняете?
– В среднем около десяти. Есть небольшие – стоимостью 100–120 тыс. рублей, есть более крупные. Например, расширяется птицефабрика, ей нужна территория до 100 га. Мы сначала обследуем ее на квадрокоптерах, потом принимаем решение о земляных работах: закладываем в определенных местах шурфы, вскрываем их, чтобы оценить взаиморасположение почвенных слоев и понять, жил ли здесь в древности человек. Согласно ФЗ-73 археология начинается со 100 лет от нашего времени, т.е. на сегодняшний день 1925 год – это уже археология.
– Вы занимаетесь хоздоговорами только в Омской области или территория шире?
– Мы можем работать в Западно-Сибирском регионе. Бывали заказы из Красноярского края, Тюменской, Новосибирской областей. Наши коллеги из Омска работают в ЯНАО, где мощно развивается нефтехимия.
– Расскажите о самом крупном вашем хоздоговорном проекте за последние два года.
– Изучение Омской стоянки – у Ленинградского моста. Сама Омская стоянка занимает огромную территорию, в том числе санатория «Восход». И недавно на нескольких кадастровых участках, относящихся к памятнику, появился новый собственник, который хочет частично застроить территорию.
– Да, там застройщики компании «ГеоТоп» и «ГеоПартнер» планируют построить гостиницу и культурно-развлекательный комплекс. Но насколько я знаю, Омская стоянка известна уже давно.
– Да, и что немаловажно – у нее уже установлены границы. Раньше археолог, обнаружив памятник, просто указывал одну точку координат. И на основании этого органы охраны устанавливали границы. Сейчас же появился Роскадастр, который ведет учет земельных участков. Все памятники археологии автоматически попадают в государственную собственность. Охрана культурного наследия стыкуется с законами, которые управляют землей, водными ресурсами и т.д. Иногда это порождает законодательные коллизии, например когда памятник и земельный участок под ним существуют отдельно. Закон был принят более 20 лет назад, но до сих пор встречаются хозяйствующие субъекты, которые не знают о нем. Когда в таком положении оказывается крупный бизнес, это выглядит комично. Если у памятника установлены границы, собственник участка получает обременение. Земли сельхозназначения, например, могут быть изъяты из оборота, тогда на них нельзя пахать, сеять, а могут остаться, но с запретом вскрывать земельные пласты более чем на глубину запашки.
– Например?
– Прибрежные территории Иртыша. На них желательно вообще никакой хозяйственной деятельности не вести. Хотя мы видим, что участки на берегах водоемов массово застраиваются. Такие противоречия между статичным законодательством и энергичным хозяйствующим субъектом существуют везде в мире. Где-то случаются конфликты. В нашем случае особенно много вопросов по Омскому району – пригороду, который активно осваивается.
В то же время ФЗ-73 об охране культурного наследия – живой. Согласно этому документу мы при обследовании земельных участков должны выполнять прописанные процедуры, не можем, например, заложить меньше определенного числа шурфов. И на Омской стоянке вся эта работа была выполнена до того, как пришли собственники. Кстати, первым был санаторий «Восход». В 1980-е годы взаимоотношения с ним складывались тяжело – археологи там раскопки вели буквально под бульдозером. Тогда были обнаружены уникальные находки.
– В чем уникальность объекта?
– Он многослойный, т.е. там представлены эпохи от позднего средневековья до мезолита. Человек в этом месте обитал несколько тысяч лет назад. Омская стоянка известна с 1918 года. Ее открыл врач, член Русского географического общества С.А. Ковлер, который интересовался историей. В 2011 году стоянку, можно сказать, открыли повторно. Там на протяжении нескольких лет сотрудники Омского педагогического университета под руководством Максима Александровича ГРАЧЕВА исследовали территорию и получили большое количество материалов и находок. Памятник поставлен на охрану государства, числится в реестре объектов культурного наследия народов России.
– Как вы себе представляете дальнейшую судьбу Омской стоянки?
– Та часть, которая будет осваиваться хозяйствующим субъектом (а это не вся территория), должна быть исследована археологами. И сейчас такие работы идут.
– Сколько это займет лет?
– Сама Омская стоянка – огромная, но территория хозяйственного освоения небольшая, поэтому обследовать ее можно на этапе предпроектных работ, думаю, в течение полутора лет. Плюс объекты будут строиться не одновременно, поэтому археологи смогут встроиться в производственный цикл.
– Если объект многослойный, то как планируется исследовать его? Недавно на пресс-конференции вы сказали, что археологи повреждают памятник при раскопках, получается, все верхние слои будут уничтожены, чтобы добраться до нижнего?
– Наша ведомственная инструкция, которая разрабатывается и совершенствуется на протяжении многих десятилетий, гласит, что собственник должен обеспечить обследование территории до определенной отметки, допустим, до двух метров. Все остальное остается в земле.
– То есть только на глубину свай или фундаментов?
– Да. Это один вариант. Если мы можем себе позволить, то исследуем все слои полностью – производим раскоп для исследования культурного слоя памятника на всю его глубину. Собственник получает «бассейн» внутри памятника, где спокойно может вбивать сваи, ставить фундамент, строить здания и прокладывать коммуникации. Да, археолог в момент такого исследования уничтожает слои, но параллельно он создает полевую археологическую документацию, в которой фиксирует весь процесс. Это и текстовые описания, и рисунки, и фотографии, и видео, и результаты забора проб для аналитики с помощью естественно-научных методов. Все данные обобщаются в научном отчете по результатам работ. Такой научный отчет поступает в организацию, которая контролирует археологов страны, – Институт археологии РАН, в отдел полевых исследований. Все археологи по истечении действия Открытого листа (это разрешение на работы, которое обычно дается на год) присылают туда научные отчеты.
– Чем еще занимается лаборатория?
– Второй пласт нашей работы – это подготовка проектов по обеспечению мер сохранности объектов культурного наследия, которые должен предпринять собственник земельного участка при его хозяйственном освоении. Еще один вид нашей деятельности – участие в судебных экспертизах, связанных с историко-культурным наследием. Мы можем давать заключения по стоимости и художественной ценности движимых объектов культурного наследия, например, монет, коллекций предметов, выполнять по заказу суда экспертизу совершенных археологических работ. Кроме того, органы исполнительной власти, отвечающие за охрану культурного наследия в регионе, заказывают профессиональным археологам, в том числе нам, мониторинги состояния объектов архитектурного наследия. На территории Омской области на учете уже стоят около 1600 археологических объектов, а вообще их более трех тысяч.
– Вы уже несколько лет ведете раскопки у Драмтеатра, где обнаружили фундаменты кухни-столовой и казармы каторжного острога, где отбывал каторгу Достоевский. Что там будет после их завершения?
– В этом году мы планируем закончить работы по Степному бастиону и каторжному острогу Второй Омской крепости. Там будет объект туристического показа и одновременно действующая стационарная музейная экспозиция.
– А какие объекты археологии в Омской области на данный момент являются объектами показа?
– Вторая Омская крепость. Претендуют Омская стоянка и объекты Ново-Ишимской укрепленной оборонительной линии 18-го века.
– Что представляет собой последняя?
– Ново-Ишимская оборонительная линия 18-го века настолько огромная, что ее сравнивают с Великой Китайской стеной. Ее остатки расположены на территориях современных Омской, Тюменской и Курганской областей. В нашем регионе находятся руины двух крепостей – Покровской и Николаевской, форпосты, редуты. Сейчас будем активно заниматься этой темой – есть идея сделать виртуальные туры по таким объектам. Остатки крепостей представляют собой четко видимые глазом фортификационные сооружения.
– Вижу, что на вашей карте Ново-Ишимская оборонительная линия идет вдоль цепи озер. Ощущение, что раньше это была река.
– Так и есть, это русло древней реки. Когда-то она начала пересыхать, и в итоге остался огромный Камышловский лог, внутри которого сохранились ложи озер. Они цепочкой идут от Омска на запад. Некоторое время назад мы подали в Министерство культуры Омской области заявление о постановке на государственную охрану Покровской и Николаевской крепостей и редутов Ново-Ишимской линии как объектов археологии. Кстати, фортификация Покровской крепости особо выделяется. Это земляное сооружение, построенное в форме шестиугольника.
– За счет чего так четко сохранился контур земляного вала?
– Там были очень высокие оборонительные укрепления, поэтому место не было введено в систему хозяйственного оборота в советское время. На фото с коптера можно увидеть не только крепость, однажды нам удалось заснять рядом с памятником черного археолога с металлодетектором. Этих ребят не смущает, что мы там работаем. И таких интересных объектов на территории Омской области достаточно много.
– С коптера крепость впечатляет.
– С земли она тоже эффектно смотрится. Там есть что смотреть. В крепость уже водят экскурсии. Люди ездят и в Москаленский район в Николаевскую крепость, которая была построена в виде пятиугольника. У нее есть большой равелин, закрывающий ворота. Обе крепости могут стать объектами показа.
– Но пока указателей к этим достопримечательностям, так понимаю, нет?
– Нет. Министерство культуры охраняет территорию от хозяйственного освоения, но включить все эти объекты в туристический, музейный оборот сложно. Проблема в другой плоскости. Ресурсов пока нет. Понятно, что на таких больших объектах показа нужно создавать инфраструктуру, начиная с туалетов, подсветки территории, ее охраны и заканчивая сувенирными магазинами. Это больная тема. Вот в Муромцевском районе недалеко от деревни Окунево у урочища Темиряк попытались организовать туристическую инфраструктуру в диком виде. Неоязычники на территории курганного могильника установили что-то типа капища – дерево вверх корнями закопали, установили идолов, ограду, окопали это место рвом – и рядом устроили зону отдыха, для чего срезали часть прилегающей территории, причем, видимо, трактором. В результате их действий была снесена часть неизвестного до того момента археологического памятника. Скорее всего это большой уплощенный курган, выложенный дерновыми кирпичами. Потрясающая по своей сложности конструкция! Ведь такие кирпичи нужно было где-то вырезать, принести, выложить насыпь объекта. Там сложный рельеф местности, поэтому, даже работая недалеко от этого места в 1990–2000-е годы, мы не смогли данный памятник археологии обнаружить. И пережили культурный шок, когда увидели разрушения, причиненные действиями неоязычников. Одна из наших обязанностей – сообщать в областное министерство культуры о разрушении памятников археологии, что мы и сделали.
– На недавней пресс-конференции вы отметили, что в мире наметилась тенденция к сохранению исторических объектов в их подлинном виде – без восстановления.
– Действительно, такая тенденция есть. Но не всегда она срабатывает. Например, археологи и реставраторы считали, что Воскресенский собор не нужно восстанавливать, что он должен сохраниться руинированным. Власть приняла другое решение. Воскресенский собор – чистый новодел, построенный по современным технологиям, но выглядит как подлинник.
– В чем отличия?
– У оригинального собора основание стен было трехметровым, поскольку вообще не существовало фундамента. Это особенности строительства 18-го – начала 19-го века. Омский научный центр СО РАН находится в здании 19-го века, которое построено по той же технологии, когда широкие стены являются одновременно и несущей конструкцией. Конечно, никто не стал бы восстанавливать собор с трехметровыми стенами и без систем канализации, отопления, которых в 18-м веке еще не было.
– Как археологическое сообщество относится к идее экс-губернатора Леонида ПОЛЕЖАЕВА восстановить Ильинскую церковь?
– Без пиетета. Смысл ее восстановления, если рядом действующий Никольский казачий собор, часовни, прекрасная церковь на Госпитальной?
– Причем подлинная.
– Да, ее никто не разрушал. Сегодня восстановление этого собора не актуально. Кто туда будет ходить? Это же центр города, здесь практически нет жилья. А вот в 18-м веке территория была густо заселена, на ней проживали люди разных вероисповеданий, поэтому в центре был своеобразный религиозный пятачок: здание «Дружного мира» стоит примерно на месте мечети, рядом находились костел, синагога, православные храмы. В тот момент Ильинская церковь была архитектурной доминантой. Сейчас она просто уже не впишется в застройку, не будет иметь для города того вида и значения, как в прошлом.
Много информации о центре города мы получили во время подготовки к 300-летию Омска, когда активно реставрировались улицы. На месте Театрального сквера обнаружили первое городское кладбище, на котором с высокой долей вероятности хоронили строителей первой Омской крепости. Без благоустройства центра города мы бы не смогли уточнить границы первой Омской крепости, открыть другие памятники археологии.
– В Тобольске старинное кладбище – один из самых популярных объектов показа. Там ежедневно проводятся экскурсии к могилам декабристов. На ваш взгляд, почему в Омске не сохранилось подобного?
– Сложно сказать. Тобольск в те годы был более богатым городом и в то же время уже не разрастался. Омск же стал крупным административным центром в середине 19-го века. Генерал-губернаторский дворец – это не шутка, а реальная резиденция главы Степного генерал-губернаторства, которое уходило далеко на территорию современного Казахстана. В то время на месте сквера у кинотеатра «Маяковский» уже находилось Кадышевское кладбище. И это была граница города. Следующее кладбище располагалось на Бутырском форштадте, сейчас тоже центр города. Затем рядом появилось Шепелевское кладбище, закрытое в 1941 году. И Омск как крупный военно-административный центр того времени быстро разрастался и поглощал кладбища. Но у нас, как и в Тобольске, на погостах были и красивые надгробья, и даже склепы.
– Сколько в Омске археологических организаций? Каким образом происходит распределение мест археологических раскопок? Знаю, что и ОмГУ им. Достоевского этим занимается, и ОмГПУ, и вы. Если интересно определенное место, организация подает заявку, получает разрешение или по-другому?
– Внешний алгоритм вы правильно понимаете. Археологов в Омской области не более двух десятков. Это те, кто имеет действующий Открытый лист. Все они лично знают друг друга. С учетом подрастающей смены – не более 30 человек. Они работают в четырех организациях ОмГУ им. Достоевского, ОмГПУ, Омском научном центре СО РАН и в частной компании – ООО «Архео». Темы, как правило, сформированы разными подходами, научными школами, поэтому пересечения почти не случается. Или мы договариваемся, кто на каком объекте будет работать. В ОмГУ, например, трудятся специалисты по каменному веку. Таких археологов мало, поэтому у них практически нет конкуренции.
– Какие источники дохода у лаборатории кроме хоздоговорной деятельности?
– В том числе можно назвать и поступления от государственных грантов. Сейчас подаем заявку на грант фонда «История Отечества» на исследовательско-просветительский проект «Две Омские крепости». В целом стоимость проекта – около 1,2 млн рублей. Омский научный центр софинансирует примерно 50% работ, используя заработанные на хоздоговорах средства.
– Когда вы пишете заявки на гранты, от вас требуют указывать экономический эффект?
– Да, когда речь идет о музейных, презентационных проектах. У чисто научных грантов есть привязка к публикациям в рейтинговых журналах – получатель обязан опубликовать статью, чтобы, во-первых, материалы, которые он получил, были введены в научный оборот, во-вторых, археологическое сообщество о них узнало и могло бы оценить. Если ты не можешь представить результаты работы на высоком научном уровне, тебя просто больше не будут финансово поддерживать. Еще один момент: фундаментальные исследования, на мой взгляд, должны финансироваться государством. Да, они не дадут быстрого выхлопа, но именно на них базируются практические. Фундаментальные исследования в археологии обязательны, ведь раскопки – тяжелая работа, дающая большой объем данных, материалов, находок, которая в дальнейшем требует серьезного осмысления.
– Сколько сотрудников сегодня работает в вашей лаборатории?
– Сейчас у нас трудятся 10 человек, из которых два кандидата исторических наук. У нас девять профессиональных археологов и один специалист по историко-культурному наследию. У семи археологов есть открытые листы, из них три – аттестованные эксперты по проведению историко-культурной экспертизы. Наши специалисты могут выполнять работы любого уровня сложности. Можно сказать, что мы сейчас на пике развития. Вот в 2025 году планируем завершить археологические раскопки на объекте «Культурный слой Второй Омской крепости. Степной бастион и каторжный острог». И уже четыре года по заказу Минкульта совместно с нашими партнерами из «Архео» и ОмГПУ занимаемся мониторингом состояния объектов археологического наследия в Омской области, находящихся на госохране. Каждый год обследуем 160–170 памятников: устанавливаем границы, описываем, уточняем координаты. Минкульт подает наши данные в Роскадастр, а там наносят границы памятников на кадастровую карту. И когда выдают разрешения на использование участков земли, обременения уже сразу видны. Государство платит нам за мониторинг. Речь идет об очень большом объеме работ. В настоящее время мы уже в финале, остались памятники только на труднодоступных территориях. В этом году предстоит целый квест, чтобы до них добраться в Усть-Ишимском, Тевризском районах. Правый берег Иртыша там очень плохо освоен, между населенными пунктами дорог практически нет.
– Поедете туда, где обнаружили кость Усть-Ишимского человека?
– Нет, мы будем обследовать уже известные поселения и курганные могильники. Что касается Усть-Ишимского человека. Вы знаете, что это случайная находка на берегу Иртыша? Да, из этой косточки удалось выделить ДНК, но у нее нет никакого сопутствующего комплекса. Если Омская стоянка – это многослойный памятник, где сохранились комплексы жилищ, погребений, то Усть-Ишимский человек – находка, которая, образно говоря, висит в воздухе. Это, конечно, феномен. Но непонятно, откуда принесло эту кость. Можно только предположить, что ее вымыло из археологического объекта, находящегося где-то поблизости от места находки.
– То есть вы не сомневаетесь, что она из Омской области, а не, например, приплыла из Казахстана?
– Если бы она приплыла издалека, то несла бы на себе следы деформаций. Я все же думаю, ее смыло с близлежащих территорий. Но вот откуда? Нас, наверное, ждут очень интересные находки, связанные с Усть-Ишимским человеком.
– Какой была ваша самая запоминающаяся археологическая экспедиция?
– Я начал ездить в экспедиции еще в школе. От них осталось ощущение чуда. Помню поездку с Борисом Александровичем КОНИКОВЫМ в деревню Кипо-Кулары в 1982 году. Он вывозил школьников, которые занимались в его кружке. Я был среди них. Но так повернулась «научная судьба», что сначала я работал в этнографии, защитился по этой специальности в 2000 году. Сейчас развиваюсь как специалист в трех направлениях – этнографии, музееведении, археологии позднего средневековья. Незабываемой для меня была и экспедиция нашего головного Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск) во главе с академиком Вячеславом Ивановичем МОЛОДИНЫМ. Мы работали в сентябре, когда уже довольно прохладно, и обнаружили интересные находки бронзового века. Я с коллегой исследовал погребение на могильнике Тартас Венгеровского района Новосибирской области, и мы нашли литейную форму. Она представляла собой прямоугольный камень, на каждой плоскости которого были выбиты формочки для литья женских украшений – сережек, кулонов. Выполнены они настолько искусно, что, думаю, и современные женщины стали бы такие носить. Эта находка потрясла нас.
Ранее интервью было доступно только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 19 февраля 2025 года.
Фото © Максим КАРМАЕВ