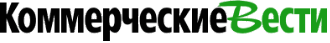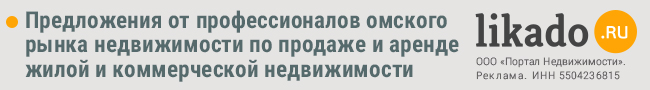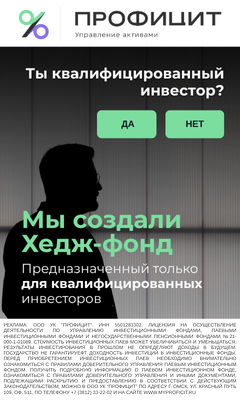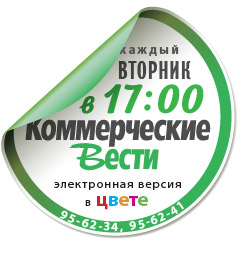Собкор «Новой газеты» из жизни ушел, а его стихи — живы.
Стало известно, когда состоится прощание с известным омским журналистом, собственным корреспондентом «Новой газеты», лауреатом премии имени Сахарова "За журналистику как поступок" Георгием БОРОДЯНСКИМ.
Прощание начнется 12 февраля в 15.00 по улице ул.10 лет Октября, 208-В в зале прощаний.
Георгий был человеком неординарным, мужественным журналистом и замечательным поэтом.
Представляем читателям воспоминания о нем, очень личные, очень субъективные, ныне калужского поэта Марины УЛЫБЫШЕВОЙ, написанные в 2009 году еще при жизни Георгия. Это часть того, что она написала в своем «живом журнале» об омском литературном объединении конца 70-х годов. И это воспоминания именно о поэте БОРОДЯНСКОМ. Как журналиста она, уехав из Омска, его уже не знала:
— Омск конца семидесятых годов – закрытый город с пылающим факелом нефтезавода, с ещё налетающими из казахстанской распаханной целины пыльными бурями, с Иртышом, расцвеченным мазутными пятнами, зимой со скрипящим сухим снегом под ногами, город миллионный, растянутый, бетонный…
Но пора рассказать о Георгии Бородянском. Романтик он был ещё тот, хотя тогда мы почти все были романтиками и думали, что это хорошо. Но он был романтик в квадрате. Он жил в совершенно придуманном мире. Придуманный мир сверкал перед ним всей радугой красок, а мир реальный, туманный и блеклый, не имеющий четких очертаний, рассеивался, как призрак под взглядом его удивлённых, тёмно-коричневых, сильно навыкате глаз. Как и Пашка Радзиевский, он обладал потрясающей шевелюрой, только не светло-пепельной, а чёрной, проволочной, как у негритёнка — «чёрный чуб из-под шапки стреляет…». Непрактичный, не умеющий считать денег, неприспособленный к жизни, всегда бормочущий под нос какие-то строчки. Про его рассеянность рассказывались анекдоты, впрочем, все они были не придуманные: про то, как он пришел к девушке в одном красном и в одном черном носке, про то, как, угощая друзей чаем, за разговором он взял веник и подмёл им крошки с пола, а затем и со стола…
Вообще быт поэтам не давался. Как-то мы с мамой делали ремонт у себя в квартире. И тут пришли охломоны. Так мама называла всех моих друзей-поэтов. Они тут же взялись помогать. Серёжа Сорокин красил дверь. Как сейчас помню его, одухотворённого, с придыханием рассказывающего что-то о литературе, с поднятой вверх кистью, с которой крупными каплями падала на пол, на его носки, на его штаны краска. Так, рассуждая о высоком, он красил дверь часов пять. Она уже изнывала и плакала густыми, плохо застывающими, подтёками. А Жора тем временем забивал гвоздики в плинтус. Они извивались, как живые, до тех пор, пока я не взяла у него молоток. Быть может, после этого ремонта я и написала стихи про Бородянского:
А мне это не кажется ни странным, ни глупым.
И дело, разумеется, совсем не в том,
Что мальчик не умеет закручивать шурупы,
Зато он с марсианином коротко знаком.
А мальчик не умеет, но он ещё научится.
Ведь гвозди заколачивать – сущий пустяк!
Ну, а пока он учится, пока он мучается,
Не спрашивайте под руку: — Ну, что? Ну, как?
-Ну, как, уроки сделал, окаянный?
В булочную сбегал? Хлеб принёс?
А мальчик запирается в прокуренной ванной
И сочиняет музыку себе под нос.
Он ничего не знает о пользе пения.
Он ноты не разучивает, не ходит в хор.
Но вместо батареи центрального отопления
Сияет ему чистая звезда Алькор.
Он что-то всё бубнит. Он смотрит, как икона,
Сквозь пахнущий горелым житейский чад.
И тянут сквозняки в пространстве заоконном.
И ходики вселенские стучат, стучат.
Впрочем, обо мне он написал гораздо больше стихов. Он писал их одно за другим, потому что (так уж случилось) относился ко мне очень романтически.
Снова юность ко мне позвонила.
-Ты чего? – я спросил.
-Ничего.
Ничего, только сердце заныло
От пустого звонка твоего.
Мне улыбка твоя надоела.
Я за счастьем уже не гонюсь.
Я устал. Ты сама захотела
Разорвать наш опасный союз.
Я казался тебе сумасшедшим.
Всё о чём-то мечтал и молчал.
То бросался под поезд ушедший,
То пришельцев ночами встречал.
А когда ты исчезла внезапно
И улыбку свою унесла,
Думал я, что умру… или завтра
Закопаюсь в земные дела.
Я ботинки начистил до блеска.
Раздобыл себе место в НИИ,
Приоделся. И девушки честно
Стали мне признаваться в любви.
И теперь у меня, понимаешь,
Есть ответ на вопрос: «Как живёшь?»
Так зачем ты его отнимаешь,
А взамен ничего не даёшь?…
Что ж ты бросила трубку, дурёха,
И пропала опять без следа.
Марсианка, родная, мне плохо,
Я наврал. Я ведь умер тогда.
По стихам Жорки Бородянского можно писать исследование о том, что происходит с романтиками, когда облетает их романтизм – красивые птичьи перья. Эгоистами тогда мы были все. Продолжали традицию Блока и Маяковского: «А вот у поэта всемирный запой и мало ему конституций…», «и гвоздь в его … башмаке кошмарнее, чем все фантазии у Гёте…», «Любимая, жуть, когда любит поэт…»
Всё идёт своим чередом:
Дом. Работа. Работа. Дом.
Я, как все, и хотя с трудом,
Но иду своим чередом.
Я с работы иду домой.
Я доволен своей тюрьмой.
Там жена у меня в светлице,
Там в темнице моей жена.
На меня она часто злится –
Ей забота моя нужна.
Я забочусь о ней, забочусь.
Я авоську беру и бидон.
Мимо лозунгов, мимо пророчеств
Я иду своим чередом.
Как по маслу и как по льду,
Каждый день мимо вас иду.
Улыбаюсь знакомым мило,
Подливаю гостям чаёк.
И всё кажется: мимо, мимо…
И всё жду: где же мой черед?
Или такое:
А ты завинти все гайки, чтоб меня не шатало.
Я стану прямым и стройным, как башенный этот кран.
И буду носить в авоське по нескольку тонн металла,
А ты будешь только плавно включать меня по утрам.
А то мой мотор «не пашет» — какая-то ноет рана,
Какая-то в нём обида, какая-то в неё беда.
И я иногда завидую судьбе подъёмного крана,
Которому всё не страшно и ниже колен – вода.
А ты завинти все гайки, а то меня расшатало,
А то меня разболтало и воля моя слаба.
Конечно, ты не об этом – совсем о другом мечтала.
И я мечтал не об этом… И сорвана с них резьба.
Второй Жоркин сборник назывался «Хруст переломленной ветки». Жизнь, действительно, его сломала. Стихи он писать перестал. Работает газетчиком, пишет, пишет, пишет… Всё именно так, как писал он в своих (всегда честных) стихах.
Вот и всё, что осталось. Коньяк, сигареты, слова,
От которых не вспыхнет и даже не чиркнет о стену –
Только спички ломаем. И тянут нас за рукава
Ироничные жены, которые знают нам цену.
Вот и всё, что осталось. Тяжёлые наши тела
Поднимаются, ноя. Какая-то горькая нота
Безнадежно запала. Выходим мы из-за стола,
Сотрясая посуду, с одышкою, вполоборота.
Вот и всё, что осталось. И жены под локти ведут
Лысоватых, помятых, своих нерадивых, которым
Всё на свете — не так. И чего они, собственно ждут
Эти жалкие души, к каким они рвутся просторам?
Вот и всё, что осталось у них на текущем счету.
И в холодную ночь, выдыхая дымок сигареты,
Всё ещё согревают какую-то в сердце мечту,
Эти бедные мальчики, эти смешные поэты…
Жизнь идёт. А я все вспоминаю, как мы вчетвером – я, Жорка, Саша Лизунов и Игорь Егоров – поехали из Сибири в Москву покорять столицу. Возможно, шёл январь или февраль. Мы вышли на мокрый перрон (в Москве было ноль градусов) в тяжелых зимних пальто, Егоров и Лизунов были в модных тогда в Омске овчинных тулупах. В своих шапках-ушанках с опущенными ушами и в свалявшихся мохеровых шарфах на фоне сверкающей, оживленной Москвы они выглядели, как заблудившиеся, лохматые собаки. Впрочем, не потерявшие оптимизма.
Наш азиатский десант должен был начаться с визита к неизвестному нам, но имевшему вес в Москве, поэту Александру Юдахину, редактору отдела поэзии одного толстого журнала. У нас имелась к нему записка, непонятно где, ещё в Омске, раздобытая Жорой. Бывший боксёр, ныне поэт и редактор, встретил нас дома на метро Чертановская. Человек необычайной энергии, подвижный, но, тем не менее, успевший отрастить себе замечательный круглый живот, видимо благодаря своим кулинарным способностям и умению потрясающе готовить настоящий узбекский плов. Он разделался с нами чрезвычайно быстро. Наши аккуратно собранные подборки со стихами трепетали в его руках, как тоненькие осинки в бурю: отрывался и облетал листок за листком. Он разбивал в пух и прах строчку за строчкой, образ за образом. Скоро всё закончилось. За исключением пары удачных, на его взгляд, метафор не осталось ничего.
«Работать, мои друзья, надо работать! – сказал он. – Стихи не терпят приблизительности». О том, чтобы просить что-то напечатать не могло быть и речи. А мы так на это рассчитывали. Он почитал нам свои, действительно хорошие, стихи, налил по рюмочке какого-то крепкого напитка, чокнулся «Чин-чин!» и дал понять, что больше не располагает временем…Затем мы очутились в Безбожном переулке. В многоэтажном доме жили знаменитость на знаменитости: в том числе застольно исполняемый и любимый нами Булат Окуджава. Но мы шли не к нему, а к Юрию Левитанскому. Опять-таки Жора где-то раздобыл к нему записочку. Но Левитанский сообщил по телефону, что примет только двоих. Какие муки пришлось пережить каждому из нас, чтобы определиться, кто же из четверых пойдёт. Тем более было понятно, что одним будет Жора. Никогда не забуду благородства своих товарищей: мне, как представительнице слабого пола, они уступили. Двое — Егорушка (Игорь Егоров) и Александр Лизунов – грустные, в овчинных тулупах и ушанках с опущенными ушами, остались в подъезде на лестничной площадке. О, как им хотелось быть на нашем месте! Они проводили нас с Жорой смиренными и страдальческими взглядами.
Квартира Левитанского после омских хрущовок показалась нам просто огромной. Нас проводили в кабинет. В ожидании поэта, не дыша, мы рассматривали его письменный стол. Бумаг мы на нём не обнаружили. Слоем в сантиметров тридцать по всей столешнице были набросаны пачки сигарет «Ява». Когда он вошёл и сел по другую сторону стола, из–за сигарет были видны только его умные и почему-то грустные глаза и аккуратно подстриженная короткая седоватая чёлка.
Он, почти не глядя, перелистал наши стихи и печально сказал то, что мы совершенно были не готовы услышать:
— Поэзия, друзья мои, сейчас находится в мёртвой точке. Знаете, если колесо с определенным центром тяжести делает полный оборот, то потом оно застывает в мёртвой точке. Сдвинуть колесо с мёртвой точки практически невозможно. Для этого нужны титанические усилия… Для этого нужен ни кто-нибудь, а гений. А гениев нет! -Мы с Жорой переглянулись, а как же мы-то! А он продолжал^
— В поэзии всё уже сделано… Даже я не могу сейчас написать новую книгу…
Как потом оказалось, к нему приходило много молодых начинающих авторов. И всем им он говорил одно и то же: про колесо и про мёртвую точку. Даже несколько лет спустя. Как будто он сам застыл в этой мёртвой точке и не мог сдвинуться с неё. И новую книгу он действительно больше не написал.
Когда мы вышли от Левитанского, Игоря и Саши на площадке не было. Оказалось, что их, как подозрительных личностей, забрали в милицию. По сигналу из квартиры этажом ниже.
Мы возвращались из Москвы несолоно хлебавши. Георгий после одной из таких поездок, их было несколько) написал:
Значит, слово своё мы ещё не нашли, не сказали.
Значит, мы ещё вряд ли кому на земле интересны –
Из провинции два чудака на Казанском вокзале
В зале отдыха, где со спины продуваются кресла.
Мы подремлем с тобой, воротник продышав, до рассвета.
Мы дождёмся обратного поезда и – до свиданья!
А в столице стихов в это время не меньше, чем снега.
А у нас, говорят, ожидается похолоданье.
Пассажиры к перрону несут чемоданы и сумки.
Вот и наше купе – две свободные верхние полки.
А потом будут длинные, длинные, длинные сутки.
Можно думать и спать, потому что устали, как волки.
Можно думать и спать до Казани, потом от Казани,
До единственной станции в этом единственном мире,
Где единственных слов мы ещё не нашли, не сказали.
А прекрасных иллюзий теперь уже нет и в помине…Когда сегодня я вспоминаю то время, мне мой племянник с вызовом говорит: «Странно! Вас послушать, тогда жить было невозможно, ничего не было, мыло выдавали по талонам, вам не хватало какой-то свободы. И тут же вы говорите, что каждый день жарили курицу, которую я сейчас могу позволить себе купить раз в три месяца, что не нужно было думать о деньгах, а устроиться работать дворником и чувствовать себя абсолютно свободным: писать, ругать власть и строй, собираясь на кухнях. Вы уж определитесь и говорите что-нибудь одно!»
Но в том-то и штука, что мы не думали о деньгах и карьерах, и мы не знали от какой именно фальши и лжи задыхаемся, включая телевизор, и что нас гнетёт тяжким грузом тогда, когда мы свободно шатаемся по городу, поём песни, обнявшись, и читаем стихи. И, главное, мы не знали, что всё это, с трудом выносимое нами и иногда ненавидимое, станем вспоминать, как самое счастливое время своей жизни. Как написал Георгий Бородянский:
И в годы застоя бывали просветы в оконных проёмах:
На кухоньках тесных, в уютных подъездах, унылых приёмных.
В казармах, вагонах, вокзальных уборных, больших кабинетах.
В каморках, конторах, глухих коридорах бывали просветы.
Когда отрывали мы взгляд от газеты – бывали просветы.
Когда забывали про цифры и сметы – бывали просветы.
И даже бывали просветы меж строчек о планах досрочных.
Как много их было–случайных, непрочных, ночных, полуночных.
Они приходили во время уроков, домашних заданий.
Они появлялись среди заседаний, учёных советов.
Как много их было – заманчивых высей, заоблачных далей.
И нет оправданий тому, кто не видел и жил без просветов.
И в годы застоя бывали просветы. Среди сухостоя
Вдруг выдохнет кто-то живые куплеты на наши застолья.
Мы песен вкусили, вкусили свободы, простора и света!
А в окнах России и в худшие годы бывали просветы.
Не со всем можно с Мариной согласиться. Ведь Георгий остался романтиком до самого своего конца.Только романтик может заниматься в нашем государстве правозащитной деятельностью: а разве не этим был занят в "Новой газете" Георгий БОРОДЯНСКИЙ 15 лет подряд? Иногда казалось: ну, куда же ты с ручкой наперевес на Левиафана? Но нередко результата он добивался: действительно помогал "униженным и оскорбленным". Даже, казалось бы, в безнадежных случаях.
Фото @ Евгения ЛИФАНТЬЕВА.