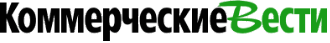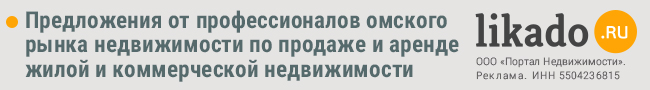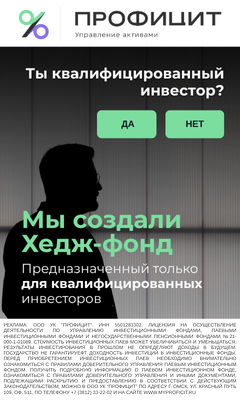«Документальная точность с намеренной депоэтизацией зримого мира».
Георгий КИЧИГИН
Живопись, графика, пластика, записки
Альбом-монография.
Екатеринбург: «Уральский рабочий», 2011 год. -360 стр.
Тираж 1 000 экз.
Солидный и наиболее полный на сегодня альбом Георгия КИЧИГИНА вышел к его 60-летию одновременно с открытием выставки в Музее изобразительных искусств имени Михаила Врубеля. Выставка называется «Окрест», такое же негласное название и у альбома. Хотя официально он озаглавлен гораздо суше.
Как юбиляр сам признался в одном из интервью, название родилось из строчки «Окрест меня глухие запустения», автора которого он не помнит. У Александра Сергеевича в «Осеннем утре», впрочем, сказано немного иначе: «А вкруг меня глухое запустенье». А вот у другого Александра – Радищева знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву» начинается со следующих слов: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Обратил взоры мои во внутренность мою — и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы».
В какой-то мере эти слова, а именно вторая часть данного высказывания относится к КИЧИГИНУ. Он прямо, цепко, чуть ли не фотографически взирает на окружающие его предметы, проникая в них, вышелушивая то, что Платон называл идеями, и неизменно обнаруживает в этих вещах самого себя — «внутренность свою». Не зря же во многих его картинах в каком-нибудь осколке или блюде сбоку нам неизменно является лицо Георгия. Например, в сумеречном выключенном телевизоре полотна «Когда гаснет экран» отражается это лицо, а рядом приоткрытая дверь, откуда слегка тянет мертвенным желтым искусственным светом. Точно так же он, искаженный, тянущийся к розетке, отражается в никелированном боку «Кипящего чайника» в другой работе. Нарисованные им предметы — это не просто вещи, а носители смыслов, мысли, четко выстроенной логики. На эту тему есть у КИЧИГИНА триптих «Жизнь мертвой натуры», где, кстати, среди других предметов, летающих в невесомости, в зеркальце опять же мы замечаем лицо самого художника. Его называют гиперреалистом и реалистом концептуальным. Это так. Его Иуда очень уж иудистый, а Достоевский – достоевскистый. Но вот мы видим оконную раму, к перекрестью которой прикреплен кусок старого полотна с обнаженным мужским торсом на багровом фоне. За окном дождь, стекло треснуто, вода попадает на картину и краски чуть текут красной струйкой по мокрому стеклу. И ничего больше не надо.
При взгляде на ряд работ КИЧИГИНА в голову приходит Сальвадор Дали. Аналогия столь прозрачна, что столичный исследователь современной российской живописи Виталий МАНИН даже бросается в защиту омского художника: «Методы КИЧИГИНА и Дали существенно различаются. Дали измышляет абсурдные ситуации. КИЧИГИН ничего не выдумывает. Он отражает реальные, типичные ситуации нашей, по сути. абсурдной жизни. И в этом его сила».
Думается, не стоит доходить до абсурда, что Георгий сильнее Сальвадора. Каждый из них растет из своих корней. Но оба с помощью своих картин ищут смысла в окружающем мире. Ведь сюрреализм Дали отнюдь не бессмыслен, скорее наоборот, он прочно опирается на культурные коды ХХ века. А вот ряд известных картин КИЧИГИНА аллегорически лапидарен: та же «Малая родина» с куском дерна, похожим на женскую головку, из которого замысловатой прической растут полевые цветы, лежащую на столике, покрытом скатертью на фоне сельского пейзажа. Работа в принципе легко прочитывается и не несет таинственной многозначности испанца. В этом отношении гораздо более глубокими представляются знаменитая кичигинская «Зима» с тремя горизонтальными линиями обледеневших проводов, забора и покрытого свежим снегом кустарника, рассохшаяся, облезлая «Калитка», где кто-то (возможно и сам художник) смотрит на нас в щель, или пара сношенных башмаков в «Уставших».
Возвращаясь к Радищеву, отметим, что не был чужд наш земляк и социальным темам – об этом его «Монумент», «Ландшафт», «Официальная каляда» и другие работы 80-х и начала 90-х годов – злые, острые, гипертрофированные, как будто иллюстрирующие новое путешествие из Петербурга в Москву (или из Омска в Омск) в эпоху развала советской империи.