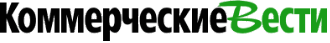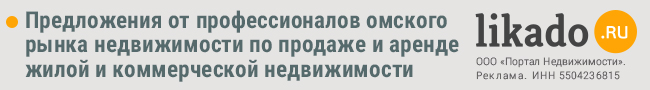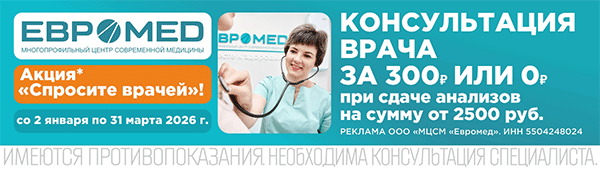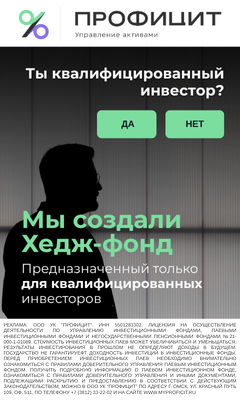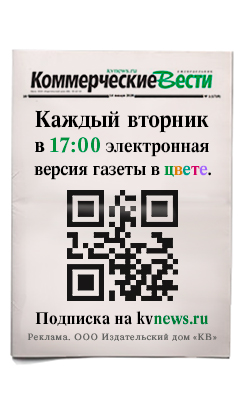По большому счету, действующий генеральный план Омска не столько про то, что НУЖНО построить, сколько про то, что и где МОЖНО строить, а где, соответственно, строить НЕЛЬЗЯ.
Омский Институт территориального планирования «Град», отмечающий в этом году 20-летний юбилей, востребован по всей стране. Долгие годы бывшее «нелюбимым сыном», предприятие все-таки получило заказ и на родной земле: выступило разработчиком генерального плана Омска, принятого в 2020 году. В 2023-м в регионе появилось руководство, щедрое на амбициозные планы – в том числе касающиеся градоустройства. О перспективах такого развития, современных цифровых технологиях, будущих урбанистах и актуальных проектах компании обозревателю «Коммерческих Вестей» Анастасии ПАВЛОВОЙ рассказал генеральный директор ООО «ИТП «Град» Илья БАЛЬЦЕР.
– Илья Сергеевич, на недавней форсайт-сессии, проведенной Агентством развития и инвестиций Омской области, в которой участвовали и вы, было объявлено о создании мастер-плана Омской агломерации и Тары. Поясните, пожалуйста, как профессионал, что это за инструмент, чем он может быть полезен региону.
– Мастер-планы появились в нашей стране совсем недавно, и этот вопрос остается весьма спорным в профессиональной среде. Дело в том, что само понятие «мастер-план» никак не закреплено в законодательстве Российской Федерации, хотя на Восточном экономическом форуме-2023 заместитель председателя Правительства РФ Марат ХУСНУЛЛИН и предложил это сделать. Кстати, я, честно говоря, не знаю ни одной другой страны в мире, где существовали бы параллельно и мастер-план, и генеральный план. Генеральный план в России появился в 1930-е годы как калька немецкого мастер-плана, понятный, четкий документ. Поскольку в Советском Союзе государство было единственным субъектом градостроительной деятельности, владело всей землей, зданиями, сооружениями, строительными, производственными и прочими мощностями, документ был планом того, что, как и где мы будем строить. После перехода на рыночную экономику эта система перестала работать. Современный же генеральный план представляет собой смесь советского генерального плана и плана зонирования, скопированного нами в США в начале 2000-х. То есть, по большому счету, действующий генеральный план Омска не столько про то, что НУЖНО построить, сколько про то, что и где МОЖНО строить, а где, соответственно, строить НЕЛЬЗЯ: есть функциональные зоны, предполагающие развитие жилых территорий, рекреационных, промышленных и так далее. Еще раз подчеркну: утвержденный генеральный план никоим образом никого не обязывает реализовывать какие-либо проекты – начиная с трамвайных путей и мостов и заканчивая, допустим, образовательными учреждениями. Да, мы можем обозначить территорию специальным значком, мол, здесь бы стоило построить школу, но по факту это к конкретному земельному участку не привязано, сроки и ответственные за реализацию решения не определены, это никак не закреплено юридически.
– А где закреплено юридически? В правилах землепользования и застройки?
– Нигде не закреплено. Земельный участок закрепляется уже проектом планировки. Я, кстати, считаю, что правильно делать проект планировки совместно с проектом межевания. Так вот, в какой-то момент в ряде наиболее активно развивающихся городов России задались вопросом дальнейшего освоения своих территорий. Допустим, в Омске необходимо построить 50 школ. Понятно, что одновременно их возвести не хватит ни финансов, ни прочих ресурсов. Тогда как определить, где именно надо построить школы – в существующих микрорайонах, планируемых? На каких участках конкретно? В какой очередности?
– Как раз на эти вопросы и отвечает мастер-план?
– Да, но их на самом деле много видов. Для себя я делю их на три типа: самые распространенные – это мастер-планы конкретной территории, есть мастер-планы города или агломерации и есть отраслевые мастер-планы, например мастер-план развития туризма или озеленения. Мастер-план конкретной территории, к примеру, сделал московский застройщик «Эталон», когда зашел в Омск, представив полный проект планировки своей площадки, включая даже расположение скамеек. Если говорить очень упрощенно, мастер-план – это квинтэссенция результатов анализа того, что региону необходимо для дальнейшего успешного развития и повышения его конкурентоспособности.
– В 2017 году ИТП «Град» по собственной инициативе представил мастер-план Омска, разработанный сообща с местными предпринимателями, урбанистами и прочими энтузиастами.
– Да, мы хотели разобраться, что такое мастер-план, потому что тогда это только входило в моду. Плюс хотели что-то сделать для родного Омска, поскольку работали исключительно за его пределами. Выяснилось несколько запросов от жителей: сделать город снова зеленым и развернуть его к воде – обустроить речной фасад, набережную, открыть бассейн в каждом микрорайоне. Но теоретически в мастер-план можно заложить какие угодно стратегии – о наружной рекламе, об архитектурном облике, о любой другой стороне города. В генеральном плане эти видения есть, но немножко с другого ракурса – там есть понятие городского каркаса, водно-зеленого, транспортного и так далее. Стратегии мастер-плана, с одной стороны, более расплывчатые, с другой, более всеобъемлющие.
– Романтичные.
– Можно сказать и так, да. Особенность составления мастер-плана в том, что он подразумевает значительное вовлечение жителей, стейкхолдеров, чиновников и прочих в переговоры о том, каким все-таки должен быть регион с нашей общей точки зрения. Возвращаясь к уже сказанному о ключевых объектах. В мастер-плане мы не просто выбираем, условно, 5 школ из 50, которые нужно построить первыми, но и сразу прописываем инструменты реализации: садим каждую школу на конкретный земельный участок, указываем механизм, каким образом будет выкуплен или изъят этот земельный участок под строительство, обозначаем ее легенду – будет это обычная общеобразовательная или какая-нибудь специализированная. Далее делается эскизный проект: примерно визуализируются площади, рассчитывается ориентировочная стоимость строительства с учетом всех инженерных параметров. Ведь как у нас сейчас происходит строительство? Администрация объявляет торги…
– … а дальше все уже зависит от подрядчика, который может и подвести.
– Правильно. В данном случае администрация, выставляя на торги заказ, прикладывает к заданию эскизный проект: вот именно такую школу подрядчик должен спроектировать и построить – допустим, гимназию на 1200 мест. И тот уже не может сказать: ой, я не так все рассчитал и вообще мне не хватает денег. У администрации же появляется больше возможностей контролировать подрядчика, поскольку есть некое представление о том, как должен выглядеть итоговый проект. Разумеется, это могут быть не только школы. Есть еще одно важное отличие мастер-плана от генерального: генеральный план – документ строго муниципального уровня. То есть законодательство не позволяет составителю принимать решения за вышестоящие органы. Например, больница – это объект регионального значения, а аэропорт – федерального. Значит, эти объекты мы обязаны отобразить в генеральном плане, но не можем изменить решения по ним. Не можем предположить развитие, допустим, какого-то промышленного предприятия или досугово-рекреационного объекта. Мастер-план же нас в принципе никак не ограничивает. Я считаю идею составления мастер-плана Омской агломерации очень правильной и особенно то, что ответственным за реализацию сделали именно Агентство развития и инвестиций Омской области, потому что это как раз инструмент для привлечения в регион инвесторов. У нас, например, есть замечательное озеро Эбейты – идеальное место для развития курортного комплекса. В алтайский Манжерок же вложился Сбербанк – там теперь просто сумасшедшая красота. Понятно, что для реализации подобного типа объектов должно быть и государственное, и частное участие.
– Вы уже делали несколько мастер-планов для российских городов. Расскажите о каких-нибудь кейсах.
– Пару лет назад мы делали мастер-план одного небольшого дальневосточного города – Тынды. Делали, как это сейчас модно, в консорциуме с московскими коллегами, компанией «ЦентрЛаб». Взаимодействовали с двумя ключевыми компаниями – РЖД (Тынду называют столицей БАМа) и одним горнодобывающим предприятием. На нас была градостроительная и архитектурная часть, на них – маркетинг и брендирование, экономический анализ делали вместе. Мы выслушали заявки компаний: им нужны были гостиницы для размещения сотрудников, потому что многие работают вахтовым методом, газификация, развитие логистики. Примечательно, что самому городу гостиницы не нужны, соответственно, становится понятно, кто будет инвестором строительства. Не секрет, что у нас наблюдается бешеный, на мой взгляд, дисбаланс: муниципалитеты вынуждены просить деньги у регионов, а регионы – у федералов. Но федералы просто так деньги не дают – только под конкретные проекты. Прийти в Министерство транспорта Российской Федерации и сказать: дайте нам, пожалуйста, пару миллиардов на дороги бесполезно. И сейчас складывается тенденция, что именно на проекты, разработанные в рамках мастер-планов, деньги выделяются проще и быстрее: поскольку есть аналитические выкладки с указанием ключевых объектов территории, с пониманием механизма, сроков и стоимости их реализации. Причем сдача мастер-планов ведется на уровне первых лиц государства. 25 дальневосточных мастер-планов, которые разрабатывались к Восточному экономическому форуму, презентовались непосредственно Владимиру Владимировичу.
– Так Тынде выделили необходимые средства?
– Да, уже предоставлено финансирование на газификацию, остальное в процессе. Само собой, различные корпорации развития критически оценивают мастер-планы и далеко не все предложенные к строительству объекты будут одобрены. В списке Тынды из примерно 20 объектов была исключена половина.
– А если мастер-план в чем-то не совпадает с генеральным планом?
– Тогда в последний вносятся изменения, хотя по-хорошему, конечно, противоречий быть не должно. Мастер-план – это визуализированная стратегия социально-экономического развития региона. Поэтому мастер-план Омской агломерации способен стать программой действия новой команды руководства региона. Вернемся к упомянутому мной озеру Эбейты. Допустим, заложат туда 3-4 базы отдыха: одну премиум-класса, две эконом, один глэмпинг. Выделят территорию под сервис. Правительство Омской области даст гарантию, что подведет туда дороги и инженерные сети. Получаем большой инвестпроект, разбиваем его на 8-10 частей, каждая из которых уже подъемна для региональных инвесторов. Предпринимателям регион дает гарантию, что им будем обеспечена нужная инфраструктура, и примерные расчеты, сколько средств придется вложить и как быстро те окупятся. Бизнесу уже благодаря мастер-плану не придется самому высчитывать предварительную экономику.
– Вас не привлекают к составлению мастер-плана?
– Мы общаемся с некоторыми представителями Агентства, но пока никакой конкретики нет. Для нас мастер-план важен еще тем, что в Омске действительно очень много объектов верхнеуровнего значения, перед которыми генплан бессилен. Взять тот же аэропорт: конечно, мне жутко нравится, что он находится в центре, и я могу за полчаса добраться до него из офиса «Града» – а бываю я в командировках очень часто. С другой стороны, понимаю, что аэропорт накладывает бешеное ограничение на развитие города, полностью отсекая от Омска Старый Кировск. К тому же это элементарно небезопасно: сегодня самолеты садятся в поле, а завтра могут до поля и не долететь. Плюс речь идет об Омской агломерации, а значит, мы можем подключить к продвижению региона все прилегающие к городу территории, сейчас это мировой тренд – бурное развитие пригородов. С учетом разворота страны на восток, мимо Омска пройти не получится, и в нашем пригороде как раз уместен логистический хаб.
Опять же, на стратегической сессии мы говорили про развитие промышленного туризма. Я бы расширил эту идею до бизнес-туризма: нужно просто привлекать в город – на промышленные, айтишные и прочие предприятия – людей, которые могли бы взаимодействовать с омской экономикой. В общем, резюмируя, это прекрасный инструмент, поскольку столь зарегулированного градостроительного законодательства как в России, в мире больше нет.
– А в Китае?
– В Китае идут по старому советскому пути: генеральными планами провинций занимается аналог советского Гипрогора, в котором работает около 10 тысяч человек. Во Франции, например, в принципе нет требований к наличию какой-либо градостроительной документации республиканского уровня: каждая коммуна самостоятельно принимает индивидуальные решения о необходимых ей планах и их составе. В Париже, кстати, прекраснейший цифровой генеральный план.
– Вы считаете его образцовым?
– Я считаю, что при составлении генеральных планов нам не хватает маневра для решений, возможностей что-то дополнительно показать, предложить – чересчур много нормативных ограничений, рекомендаций от Минэкономразвития РФ. На днях я был в Екатеринбурге, рассказывал о том, как вижу дальнейшее развитие нашего подхода к градостроительной документации. Скорее всего в обозримом будущем генеральный план сольется с правилами землепользования и застройки в единый документ с четким зонированием, потому что борьба между территориальными и функциональными зонами, кажется, утомила уже всех абсолютно. Будет единый цифровой план, в котором будет регулироваться и зонирование, и разрешения на строительство объектов, и плановая инженерная инфраструктура и так далее. Сейчас это огромная отраслевая проблема. Смотрите, генеральный план, по сути, нужен нам только один раз в жизни: когда мы строим город. Генеральный план Омска 2020 года является наследником генплана 2007 года, а тот в свою очередь – советского генплана. Современная жизнь меняется слишком быстро, а так как мы не ставим своей целью снести город и построить на его месте новый, то должны оперативно вносить изменения в действующий план. В наиболее активно развивающихся городах России так и делают: корректируют генпланы раз-два в год, в столице этим в непрерывном режиме занимается Институт генплана Москвы. Сейчас мы, к слову, приступаем к очередной корректировке генерального плана Владивостока, с которым работаем уже 6 лет. Цифровая модель города позволит вносить точечные изменения, быстро оказывать услуги, считать различные параметры. Мастер-планы прекрасно вписываются в эту систему. Очень хорошие примеры цифровых генпланов в Казани, Нижнем Новгороде. На Сахалине с нашим участием тоже реализованы прекрасные решения.
– Да, я писала, что вы для них разработали комплексный инфраструктурный план регионального развития. А что это вообще такое?
– Давайте объясню на примере Омской области. У нас с вами 32 муниципальных образования. Значит, на Омскую область одновременно действуют следующие документы: 5 федеральных отраслевых схем Российской Федерации (в области развития транспорта, например), схема территориального планирования Омской области, 32 схемы территориального планирования муниципальных районов, порядка 420 генеральных планов на каждый населенный пункт Омской области, порядка 420, опять же, правил землепользования и застройки. Каждому населенному пункту положен комплексный план развития социальной инфраструктуры, комплексный план развития транспортной инфраструктуры, комплексный план развития инженерной инфраструктуры – порядка 1200 таких планов. Плюс наши региональные и муниципальные ведомства периодически готовят собственные программы развития – по экологии, допустим, или здравоохранению. Мы их насчитали в Омской области несколько десятков. Еще у каждой ресурсоснабжающей организации есть инвестиционный план развития. И все эти документы должны соответствовать друг другу. Разумеется, этого не происходит, потому что не в человеческих силах ежедневно отслеживать изменения в чужих документах и вносить правки в свои. Собственно, комплексный инфраструктурный план развития региона объединяет все объекты и все программные решения из этих документов в одну цифровую модель, связывая их друг с другом. Каждому объекту недвижимости присваивается уникальный идентификационный номер.
– А на практике это как выглядит?
– Появляется, например, необходимость в строительстве котельной. Благодаря цифровой модели мы видим, что раньше эта потребность нигде не была отражена, ни в какой документации. Значит, сразу понимаем, куда ее нужно включить, для того чтобы можно было проект воплотить в жизнь. Потому что, к сожалению, у нас возникают случаи в стране, когда есть решение, есть финансирование, но нет возможности реализации, потому что этому противоречат какие-либо документы. В одном из регионов – это реальный кейс – построили больницу, но не проложили к ней дорогу. Просто из-за рассогласованности: больница строилась по программе развития социальной инфраструктуры, а дорога – по программе транспортной инфраструктуры. В первой были заложены деньги на текущий год, а во второй – только на следующий. Но и в Омске такое бывало. Рядом с нами реконструировали улицу Краснофлотская в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сделали все замечательно, но через год со своим инвестпроектом зашел Омскводоканал, и дорогу сломали, чтобы добраться к сетям, положили асфальт заново. А вот если бы это решение было согласовано, то мы могли бы получить две дороги вместо одной: одну за счет нацпроекта, другую за счет Омскводоканала. КИПРР позволяет, благодаря своим инструментам, во-первых, согласовывать все подобные решения в онлайн-режиме, во-вторых, органу власти проверять и контролировать исполнение этих решений.
– По КИПРР вы еще работаете с Приморским краем. А в родной регион есть перспективы зайти? Это должен быть региональный заказ?
– Конечно. Мы были бы, безусловно, рады выполнить эту работу, только у нас, прямо скажем, очень невысокое качество градостроительной документации в районах: сложно согласовывать решения, которых попросту нет. Весь вопрос в том, что действительно нужнее сейчас Омской области. Лет 10 назад мы общались с одним местным потенциальным заказчиком, и нам было сказано: «Я могу заказать вам сейчас генплан, а могу купить, условно, пяти обманутым дольщикам квартиры». Чиновникам приходится выбирать. Поэтому мне сложно судить, не имея возможности оценить целиком всю картину. Разумеется, государство сейчас активно мотивирует развивать цифровые решения, поскольку они исключают человеческий фактор: компьютер глупее и договориться с ним невозможно.
– Я поняла ваш намек на коррупционогенность, да. Какие еще проекты у вас сейчас в разработке? Я видела, что вы участвуете в конкурсе на составление мастер-плана Грозного.
– Уже проиграли, заняли почетное третье место, уступив «Студии Артемия Лебедева» и победившей команде Master's Plan. На самом деле это очень любопытный творческий вызов: город с очень непростой историей, который хочет стать воротами в арабский мир, немножко Дубаем, но при этом сохранить уклад большой семьи. Все это переплетено и с исламом, и с местным патриотизмом, и с мощнейшим федеральным патриотизмом. Жутко интересный проект, я могу рассказывать о нем часами. Про Владивосток я уже сказал... Начали формировать мастер-план курортной зоны Домбай на Кавказе, тоже работаем в консорциуме, но подробностями поделиться не могу: подписал соглашение о неразглашении. Разрабатываем генеральный план Волгограда – города-миллионника, очень похожего на Омск: так же как Омск, он ищет себя, не может понять, зачем он нужен и каким должен быть в будущем. Мы схожи и по рельефу, и по реке (хотя Волга, конечно, гораздо больше Иртыша), и по сельскому хозяйству, и по наличию нефтезавода…
– …И заводу техуглерода, да, знаем.
– Очень интересный город со своими особенностями. Перенося в наши реалии: чтобы попасть из Нефтяников в Порт-Артур, придется проехать 80 километров. Делаем генеральный план Новокузнецка, корректируем документацию городов Свободный и Циолковский (космодром «Восточный»). У нас сейчас в портфеле порядка 20 проектов.
– А еще в этом году вы запустили обучение от «Града».
– Да, еще несколько лет назад подписали соглашение о сотрудничестве с СибАДИ. Пережив достаточно долгие бюрократические процедуры, утвердили учебную программу и провели этим летом первый набор на магистерскую программу управления развитием территорий. В заочной группе у нас порядка 20 человек, в очно-заочной – около 10. К сожалению, обучение пока платное, потому что по правилам Минообразования, пока не будет проведена аттестация, проверка качества образования, бюджетное финансирование выделяться не будет. Поэтому я бы назвал ребят смельчаками, но мы изо всех сил стараемся, чтобы они не были разочарованы. Подчеркну, что градостроители это не обязательно архитекторы, это могут быть и инженеры, и транспортники, и юристы, и экономисты, и даже филологи. В очно-заочной группе у нас учатся действующие сотрудники органов власти. Приглашали всех, чтобы впоследствии дать специализацию по планированию городов.
– Практику будут проходить в «Граде»?
– Наверное, да. Пока студентам читают лекции. Этим проектом занимается Анна Николаевна [БЕРЕГОВСКИХ, руководитель ИТП «Град» с 2003 по 2018 гг., научный работник, писатель и преподаватель, мама Ильи Сергеевича – Прим.авт.]. Она лучше знает все нюансы, я только помогал в организации программы.
– Как вы оцениваете перспективы выпускников?
– Как очень хорошие. Наша отрасль активно развивается, Forbes включил урбанистов в десятку самых перспективных профессий XXI века. На специалистов уже бешеный спрос: и у нас, и у коллег. Вот из двух регионов нас слезно умоляют помочь найти им главного архитектора. Сразу скажу, Омской области там нет. Опять же очень много применяется решений в области цифровизации, в
частности, по умному городу. В эту тему заходят сейчас все подряд, включая гигантов вроде Сбера, Газпрома, Росатома. Всем им нужны аналитики, потому что программисты не справятся сами с постановкой задач.
– Я буду спрашивать вас об этом каждый раз: как вам Омск по сравнению с другими городами?
– Омск, и я здесь соглашусь с кучей всяческих рейтингов, находится где-то посередине: есть много городов значительно хуже Омска и с точки зрения внешнего вида города, и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения управления, и с точки зрения сервиса. Понятно, что хочется большего, но до Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Екатеринбурга нам все еще далеко. Все ведь упирается в отсутствие денег – омская экономика оказалась не готова в свое время к рыночной экономике. Но последние тенденции мне нравятся. Нравится, что у нас появились федеральные застройщики, которые привыкли работать в более конкурентной среде и прививают нам новые стандарты проектирования и строительства. Омские застройщики жаловались, что у них никто не купит больше 300 тысяч квадратных метров жилья, но зашла «Брусника» и распродала все – еще непостроенное! – почти буквально за два дня. Еще пять лет назад все совсем иначе обстояло и с дорогами, и с общественными пространствами. Да, они не все идеальны, но однозначно лучше, чем были. Как мне показалось, новая команда региона делает акцент на развитии промышленности и экономики. Если у них это получится – очень хочется, чтобы получилось – тогда, наверное, в Омске появятся другие деньги, а значит больше возможностей для озеленения и новых социальных объектов, в принципе, для повышения качества нашей жизни. Будем надеяться и наблюдать, что из всего этого получится.
Ранее интервью было доступно только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 18 октября 2023 года.
Фото © Максим КАРМАЕВ