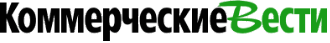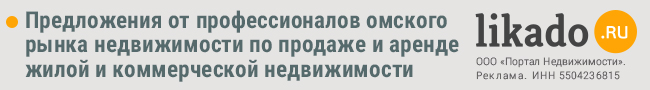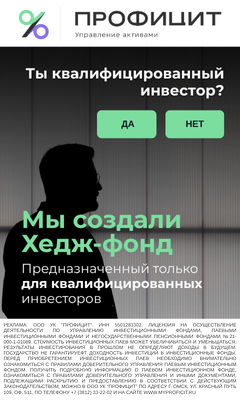Великий режиссер Александр СОКУРОВ во время своего визита в Омск нашел время, чтобы встретиться на "кухонных посиделках" с журналистами "КВ" и ответить на волнующие их вопросы о кино и реальности. Предлагаем читателям текст беседы.
– Александр Николаевич, выступая недавно с "Открытой лекцией" вы рассказали, что еще задолго до украинского конфликта ясно видели, к чему все идет. И сказали, что с Казахстаном ситуация может сложиться аналогичная. Могли бы вы объяснить свои опасения?
– Впервые это было сказано в 2008 году в Москве на встрече Всероссийского театрального общества. Для меня произошедшее было совершенно обычно, потому что все эти конфликты зреют не в политической области и не в экономической, а внутри общественного сознания. Для украинского сознания желание противостоять, дистанцироваться от русских – абсолютная норма. Во ВГИКе со мной учились молодые люди из Украины. Разговоры о том, что мы им порядком надоели со своим большевизмом и русскими настроениями, что мы им очень мешаем, в студенческой среде звучали все время. Никто не реагировал на это так же страстно, как это говорилось, все сводилось к шуткам, но это настроение было очевидно. Я несколько раз бывал в Киеве и Кривом Роге и встречал его везде. Исходило оно не от метисов, не от полукровок, а от людей, укорененных в культуру. Когда я говорил моим молодым друзьям, что значительную часть советской партийной элиты составляли именно украинцы, что эти люди и осуществляли всю активную политическую деятельность на территории Украины, – они и слышать об этом не хотели, называли их предателями и так далее.
Мне было понятно, что дистанция существует. Когда этот котел начнет кипеть, было вопросом ближайшего времени. Политики такие проблемы решать не умеют, тем более люди с большевистским сознанием. А мы все окружены политиками именно с таким сознанием, насколько я могу судить. Это вопрос очень простой, на мой взгляд. Надо было давно решать его практическим дистанцированием: признанием существования отдельной украинской культуры, признанием реальности границ соседнего государства, дистанцированием в области политических и экономических отношений – без всяких расшаркиваний, льгот и так далее. Как с любым другим государством, нужна была рутинная равноправная международная деятельность – чего, конечно, не было. Поскольку постоянно существовала какая-то непроясненность, теневые ниши, то включался наш бизнес. Безусловно, имело место сращивание русского и украинского бизнеса – абсолютно криминального, на мой взгляд. Полагаю, что так же вели себя и политики. Были активные интересы русских массмедиа (телевидения и кино), которые внедрялись на Украине и продолжали существовать в общественном сознании. Когда сейчас там снимают с экранов наши сериалы, мне это понятно. Все это очень простые вещи.
У меня самого по линии отца дед и бабушка говорили только на украинском языке, на котором я не понимал ни слова. Они были депортированы из какого-то района Украины в Казахстан. Там они и жили, в селе Красногорка в Кордайском районе Жамбылской области.
Я сейчас много писем получаю и по интернету, и напрямую. Мне приносят конверты, на которых иногда даже нет моего адреса, а только: "Петербург, СОКУРОВУ". Много писем из Казахстана от русских, евреев, немцев, которые просят помочь защититься, переехать. Много писем от женщин с детьми, без мужей. Часто речь идет о попытках отъема частных домов у этих семей, о переселении их в какие-то негодные для жизни условия. Люди пишут о запрещении разговора на русском языке в сфере образования и медицины. Много писем от врачей, которые хотели бы уехать. Я мало чем могу помочь этим людям. Но и до того, общаясь в институте кинематографии с казахами – работниками гуманитарной сферы я видел энергичное отрицание каких бы то ни было контактов с русскими. Конечно, были и другие, но больше встречалось тех людей, которые категорически отрицали какие-либо отношения с Россией и с активной злобой вспоминали совместное прошлое в одной стране.
– Какие сейчас настроения в российской режиссерской среде? Это ожидание перемен, волна патриотизма или что-то еще?
– Я могу говорить только про себя. Я пытаюсь найти физические силы, чтобы работать дальше. Я не очень хорошо себя чувствую, но многое еще не сделано. Режиссерская работа, как и всякая визуализация, требует больших физических сил, упорства и, к сожалению, больших средств. Всякий профессиональный результат требует концентрации средств. Вы знаете, что такое выпускать серьезную газету, даже интернет-версию. Как в пространстве прессы, так и в пространстве культуры, мира нет. Идет открытое военное силовое противостояние. В кинемотографе главное противодействие – между так называемым визуальным товаром и какой-то попыткой художественного творчества. Я полагаю, что стою на стороне тех, кто пытается заниматься художественным творчеством. В кино это довольно трудно в силу его специфики. Естественно, надо также понимать, что демократическое государство не заинтересовано в искусстве, какую бы область мы ни взяли.
– Любое демократическое государство?
– Любое. Тоталитарное государство заинтересовано, демократическое – нет. Демократическое государство заинтересовано в усредненном результате, усредненном качестве. Всякое произведение, которое оказывается выше этого, вызывает политическое противодействие. Оно может быть открытым, скрытым или существовать на уровне инстинкта, тем не менее оно есть. Понятно, что у государства и культуры разные, несопоставимые и несоединимые задачи, но за мирное их сосуществование надо бороться всеми силами.
Я сейчас пытаюсь выйти на какой-то другой жизненный этап, готовлюсь к практической реализации некоторых идей. Одни уже близки, другие еще в отдаленном пространстве. Есть идеи локальные, камерные и не требующие больших средств, но есть и те, которые, к сожалению, стоят недешево.
– Александр Николаевич, хотел спросить вас о ТАРКОВСКОМ. Вы ведь близко его знали. Расскажите о своем к нему отношении. А то ГРИШКОВЕЦ пишет какие-то письма о ТАРКОВСКОМ, а от вас – человека, близко его знавшего, мы мало слышали.
– Я действительно знал ТАРКОВСКОГО очень близко, любил его. Мы были очень близкими людьми. Я всегда удивлялся, что в отношении ко мне он был каким-то ласковым, нежным. Я ведь был на 20 лет моложе его, а он никого не допускал к себе, тем более к семье.
– Он был сложным человеком.
– Сложным в том, что позволял себе называть вещи своими именами. Это были жесткие, иногда крайне жесткие слова. И говорил он их открыто, не за спиной. Это порождало большие проблемы. В Москве ему было очень тяжело. Он был окружен откровенной ненавистью коллег, ровесников. Среди людей, которые так вели себя по отношению к нему, были люди известные, в том числе известные вам режиссеры. Эти люди принесли много бед и ему лично, и его семье – из-за зависти, ненависти этой. У советской режиссуры был комплекс – отсутствие всемирного, хотя бы европейского резонанса. ТАРКОВСКИЙ был единственным, кто имел такой резонанс, и единственным, чьи работы отслеживались мировой прессой, мировыми специалистами. Весь мир слушал, что он говорит, цитировал его слова. И предмет, и содержание того, что он говорил, были за пределами общего течения соцреализма. Я сейчас не говорю, что соцреализм – это абсурд. Нет, это самостоятельный стиль, но ТАРКОВСКИЙ точно был не из этого течения. И ему было очень тяжело.
Я был знаком с его женой Ларисой Павловной. Я провожал ее, когда она уезжала. И его, когда он уезжал. Собирали вещи. Зрелище это было тяжелое. Было понятно, что шансов вернуться нет. Он был человеком огромного дарования, причем оно, что далеко не всегда бывает, сочеталось с высочайшей самооценкой. Это подогревалось в семье, Ларисой Павловной. Семья, конечно, многое сделала, чтобы он уехал из России. Лариса Павловна хотела роскошной жизни, Парижа, Рима... Она говорила: "Я дочь генерала, я должна жить хорошо. А я хожу тут в этой заячьей шубе". Когда он оказался за пределами страны, на него оказывалось не только политическое давление, давление эмиграции, но и семейное. Лариса Павловна создавала всякие страхи, провоцировала ультимативные какие-то ситуации.
Если говорить в общем, это была классическая жизнь человека, который по природе своей являлся носителем еще старого, славяно-кавказского генотипа. По отцу он был дагестанец. Его дед был из князей в Тарковском шамхальстве. Соединение это чувствовалось в его характере. Для кавказцев характерна свойственная ему взвинченность, чувствительность невротическая... Вместе с тем бесконечно нежный и бесконечно теплый человек.
– Уже много лет не дают покоя некоторые легенды. В частности, рассказ о том, как вы свой первый фильм "Одинокий голос человека" вместе с Юрием АРАБОВЫМ подменили и выкрали из института. Эта история постоянно тиражируется, но источник за давностью лет потерялся. Она правдива?
– Фильм был сделан на двух пленках: отдельно изображение, отдельно звук. Это несколько десятков килограммов веса. В отдельных железных ящиках – бобины с позитивом, негативом и фонограммой. Когда было принято решение, что "Одинокий голос человека" – антисоветская картина, которую необходимо смыть, мы действительно залезли ночью на склад и подменили ее на какие-то сводки. Склад был, конечно, закрыт, но мы подобрали ключи. Поскольку таких случаев никогда не было, никто не обратил внимания.
– Решение об уничтожении картины было принято на уровне института?
– Да, конечно. Это же предполагалось как дипломная работа. Те, кто его посмотрел, разделились на две части: одни принимали, другие категорически, с большим эмоциональным раздражением отрицали. Первый, к кому мы решили обратиться еще до приказа о смытии картины, был Константин СИМОНОВ. Мы связались с ним, и он согласился посмотреть. Договорились с киномехаником во ВГИКе о ночном просмотре в одном из маленьких залов. Было часов десять вечера. Он приехал. Тогда он был уже тяжело болен – четвертая стадия рака. Он сидел с трубкой в зубах. Поскольку всю жизнь он курил, а теперь курить было нельзя, он грыз трубку. Помню этот звук – как он бился об нее зубами. Когда фильм закончился, зажегся свет, он посмотрел на меня и сказал: "Сашенька, а вы знаете, в какой стране вы живете?" Я говорю: "Да, уже знаю". Он сказал:"Я ничего не смогу сделать". А после (кажется, я этого еще нигде не рассказывал) СИМОНОВ сказал, что он задолжал ПЛАТОНОВУ: не смог лично помочь в той мере, в какой нужно было, когда ПЛАТОНОВУ было очень тяжело. И что он благодарен, что увидел этот фильм, который снят в память об этом человеке. Он сказал, что был бы готов поддержать фильм хотя бы ради ПЛАТОНОВА, но перспектив не видит. С тяжелым сердцем встал и ушел. Нам он напоследок сказал: "Будьте осторожны. Вам осталось недолго в этом пространстве существовать, раз вы такое сняли. Приготовьтесь. Вам нужно понимать. Я болен, и я знаю, что это за болезнь. Вы тоже больны". Но на следующий день он позвонил ректору ВГИКа. Как мне рассказывал помощник СИМОНОВА, у них был длинный и тяжелый разговор. СИМОНОВ был фигурой, конечно, грандиозной. Ректор (его фамилия была ЖДАН) позволил себе кричать на него – что он поддерживает антисоветчика и так далее. СИМОНОВ положил трубку, не стал разговаривать. Все понял. Он переживал от того, что еще более усугубил мое положение. Мне сказали, что СИМОНОВ звонил, что разговор получился абсолютно тупиковый и никакого результата быть не может. На просмотр фильма пришел завкафедрой режиссуры ГЕРСИМОВ Сергей Геннадьевич с какой-то молодой девушкой. Сидел, обнимал ее. После 35 минут просмотра встал, сказал кое-что нецензурное и вышел. Знаю, что на просмотре присутствовал ХУЦИЕВ, который потом своим студентам сказал: "Если вы это видели, то вы видели, как не надо делать". Для профессиональной среды это было достаточно характерно.
Мы, конечно, стали понимать, что никакой надежды нет. Когда я узнал, что вышел приказ об уничтожении картины, то в считаные часы мы вывезли материалы со склада института.
– На чем везли? На машине?
– Да, на такси.
– А где спрятали?
– В общежитии у московских друзей. Правда, друзья не знали, что это такое. Все же студенты, которые учатся в киновузе, что-то делают. Тогда все ходили с этими банками. В институте успокоились, потому что все смыли, а мы сидели тихо и думали, что делать дальше. Потом уже был ночной просмотр на Мосфильме для ТАРКОВСКОГО. До этого я знал только фамилию, не был с ним знаком и даже не предполагал, что могу познакомиться. До института я жил в городе Горьком, а во ВГИКе его картины не показывали.
Конечно, вопрос о том, как быть дальше, был очень важен. Не только для фильма, но и вообще для жизни. Тот ночной просмотр во многом разрешил его, по крайней мере, эмоционально. Я понял, что хотя бы кто-то на моей стороне. Ведь когда режиссер снимает фильм, он никогда не может сказать, что он сделал что-то... У меня никогда не было такой самоуверенности, всегда что-то не получалось. И тогда многое не получилось в силу сложности обстановки. Я понимал, что сделал все, что мог, но ни в коем случае не предполагал, что это какой-то идеальный результат. Но ТАРКОВСКИЙ сказал то, что он сказал.
– Андрей ПЛАТОНОВ, Бернард ШОУ, потом СТРУГАЦКИЕ. У вас такой разброс...
– Почему разброс? Это то гуманитарное пространство, в котором мы жили. Мы получали хорошее образование. У меня первое образование – историческое. Курс зарубежной литературы в институте кинематографии нам читал БАХМУТСКИЙ, философии МАМАРДАШВИЛИ, русской литературы – ЗВОННИКОВА. Собственно говоря, одна из главных возможностей что-то еще сформировать или доформировать у молодого человека – это вовремя поворачивать ему голову в сторону литературы. Для режиссера, по крайней мере, это так. Ничто не формирует человека так, как литература.
– Что стало толчком к тому, чтобы снять "Дни затмения"?
– Мы шесть раз пытались с Юрием Николаевичем АРАБОВЫМ уговорить нашу цензуру сделать фильм под названием "Silentium!". Сценарий был написан. Это о ТЮТЧЕВЕ: история его личной жизни, его взаимоотношений с государством Российским. Шесть раз выходили на худсовет. Потом пробились уже как-то с этим сценарием в Госкино, но он был отвергнут. Отказывали под разными предлогами: то слишком прорусская картина, то слишком промонархическая, то слишком антимонархическая. В общем, выкручивались как могли. Когда в очередной раз нам не дали согласия, я прочел "За миллиард лет до конца света". СТРУГАЦКИХ я не люблю, как и в целом фантастику. Все же я испорчен хорошей литературой, и сюжетиками с намеком на советскую реальность меня не удивить. Но я ехал из Москвы в Ленинград, и ко мне в руки попал журнал "Знание – сила".
– Там был опубликован сценарий?
– Нет, повесть. Меня просто пронзила эта коллизия. Главному герою нужно принять решение здесь и сейчас: отказаться от продолжения своей деятельности или с его женой и ребенком что-то произойдет. Поскольку я в своей жизни с такими ультимативными внешними обстоятельствами сталкивался с определенной периодичностью, то я очень хорошо это понимал. По приезде в Ленинград я позвонил нашему главному редактору и сказал, что хотел бы рассмотреть эту повесть как альтернативу. Это первый раз в жизни, когда я снимал то, о чем раньше не думал. Обычно все сценарии, замыслы по многу лет лежат, разные экспликации делаются. Мне было сказано, что над этим сценарием уже работает КАДОЧНИКОВ. СТРУГАЦКИЕ зарабатывали на жизнь кинематографической работой очень активно. Им была безразлична и фамилия режиссера, и что он делает из их произведения. Они напрямую мне об этом говорили, когда я с ними встретился: "Раз вы делаете кино, то вы хозяин. Делайте, что хотите. Мы написали повесть. Здесь нам нужны только деньги". Они что-то знали об "Одиноком голосе человека", поэтому моя кандидатура их заинтересовала, и они согласились, что я буду делать этот фильм. Но через какое-то время я понял, что не имею ничего общего с тем, что написано КАДОЧНИКОВЫМ. Я договорился со СТРУГАЦКИМИ о том, что появится Юрий Николаевич АРАБОВ и мы с ним сделаем все необходимое. К этому времени КАДОЧНИКОВ погиб.
Съемки мы провели. Я посмотрел материал и понял, что надо все переделывать. Мы полностью переписали все тексты персонажей. Появились новые имена героев, новые профессии, новые коллизии. Сам материал говорил, что надо делать следующий шаг. Это, конечно, была борьба с этой антисоветской фантастикой, которая мне всегда не нравилась. Я как историк протестовал против прожектов. Я к тому времени уже прочитал в самиздате СОЛЖЕНИЦЫНА и понимал, в чем его художественность, сила. Фантазиями было уже не удивить.
Я думал, что картину никогда не пропустят, но к тому времени, как мы ее сделали, уже наступили перемены. В Госкино меня попросили убрать только один кадр, ничего не значащий. Картина вышла, причем очень большим тиражом.
– Вот этот страшный туркменский мир – он таким и был задуман?
– Я знал, куда еду снимать. Я там жил несколько лет, когда еще в школе учился.
– Это непонимание взаимоотношений – ощущение вашего детства или юношества?
– Наоборот, понимание. Туркмены из всех соседей – самые толерантные, самые мягкие к русским. И тогда так было, и сейчас. Это народ с реально существующей культурной традицией, который свое отвоевал. Басмачество там было и жестоко подавлялось Красной армией. Люди поняли, что эту часть жизни они проиграли, но в условиях Советского Союза развитие было очень большое у этого народа. Там мне удалось договориться через знакомого моего отца, который после армии работал в военкомате, и мы поехали в Каракумы. Уехали километров за 180 от того места, где велись съемки, в зону, где когда-то были урановые родники. Там разместили душевно больных людей на умирание. Все они были раковые больные, постепенно угасали. Мы влетели буквально на сутки туда – пока наше КГБ не пришло в себя от этого вторжения. Снимали непрерывно. Когда я понял, что за нами уже едут, мы быстренько собрались и уехали. А через два дня улетели в Ленинград. Так они и не поняли, были мы там или нет. Только когда картина уже вышла, все стало ясно. Это была одна из деталей реальности, которая сильнее, чем всякие выдумки.
– Вся ваша жизнь – это сопротивление. Вам никогда не хотелось все бросить и уйти из профессии?
– Я не поклонник кинематографа, не фанатик кино. Я люблю литературу. Но моя практическая, профессиональная жизнь так сложилась, что я шаг за шагом шел по этому пути. Виной тому, наверное, мой характер: начав делать, я не умею бросать. Я считаю, что я не в той степени реализую себя в этой области, в какой мог бы в каких-то других областях. Желание прекратить заниматься кино, конечно, есть. По крайней мере, последние лет восемь точно. Может быть, это и произойдет. В современной действительности люди со своим синтаксисом, своей фонетикой не нужны публике. Все же кино – это стандартный вид производства. Если книга выпущена тиражом полторы тысячи, то она есть, но если кино посмотрели полторы тысячи человек, то можно считать, что его нет. Экономические условия такие. Это кроме того, что кино просто отвлекает людей от вещей, без всякого сомнения, более фундаментальных. Чем больше кинематографа в жизненном пространстве человека, тем ниже уровень его интуиции, самостоятельности, независимости. Тем ниже развитие личностных качеств. Картинка подменяет развитие. Развитие – это слово. Present Continuous tense, настоящее продолженное.
– От того, какая картинка, разве ничего не зависит?
– Мало что.
– Ваши фильмы...
– Они несовершенны. Мало что зависит, уверяю вас. Как человек, который знает, как кино делается, из чего складывается, могу вам точно это сказать. Мы в кино порабощаем человека. Навязываем ему целый комплекс представлений и ведем по своему пути. А у человека должна оставаться часть своего пути. Вы пришли в зал, и я вам все навязываю: хронометраж, сюжет, эстетику, этику, если она есть. Вы не свободны. Только в "Русском ковчеге" была попытка освободить зрителя хотя бы от одной части зрелища, от монтажного насилия.
– Если я не ошибаюсь, не так давно вы поддержали молодого омского режиссера – автора короткометражки.
– Да, был молодой человек, которого по моей просьбе вызвали в киношколу в Санкт-Петербург. Он учился в 10-м классе. Парнишка безусловно способный. Надо сказать, что мы в России вообще предрасположены к кинематографу, но его предрасположенность уникальна и удивительна. Я публично вручил ему приз "Моя надежда" – два больших тома эрмитажного собрания. Хотя для него это, думаю, не имело никакого значения. Он поступил во ВГИК. Я видел его ВГИКовскую работу. Она не показалась мне интересной, но буду надеяться, что все у него еще впереди.
– Александр Николаевич, вы верите в соцопросы?
– Верю, как и вообще во всякую честно сделанную работу. Конечно, очень многое здесь зависит от научной культуры, от методологии.
– А в твердость позиции опрашиваемых?
– Это, опять же, зависит от честности процедуры. Можно не верить, что рак на четвертой стадии излечим, но честность, сосредоточенность и профессионализм доктора может и перечеркнуть намерения смерти. Я считаю, что это одно из величайших достояний цивилизации – способность человека честно трудиться. В первую очередь мужчины, конечно, потому что большая часть мужчин не способна к честному труду. Это очень большая и тяжелая участь – честно работать. Во всех областях.
– Насколько я понял, вы негативно относитесь к фильму "Трудно быть богом" ГЕРМАНА.
– Ну что вы? Нет, это большой профессиональный труд, который сделан в условиях, которых в истории кино никогда и никто не имел – десятилетиями делать кино. Конечно, у меня есть резко отрицательное отношение к личности этого человека. Я знаю своеобразие характера всей этой семьи, долги годы наблюдал его. У меня резко отрицательное отношение к подобного рода моральной схеме. При этом надо сказать, что фильм, без всякого сомнения, несет черты этой личности, внутреннее негативное состояние автора. Иногда я думаю, что вред от таких художественных результатов очень велик, потому что он направлен в будущее, как мне кажется. Встреча с таким художеством может быть очень опасна. Кино способно воспроизводить и сохранять какую-то такую дьявольскую работу, в отличие от остальных видов искусства. Ни живопись, ни музыка не в состоянии поддерживать внутреннюю напряженность, жесткость, безжалостность.
– И безнадежность в этом фильме?
– Нет, не безнадежность. Безжалостность. Но я хочу подчеркнуть, что, без сомнения, Алексей Юрьевич – мастер своего дела. Без сомнения.
– Спасибо большое за ваше время и за этот разговор, Александр Николаевич!