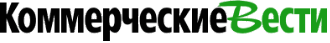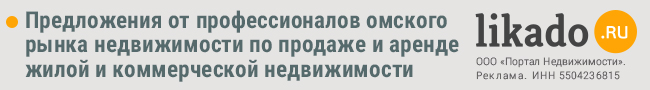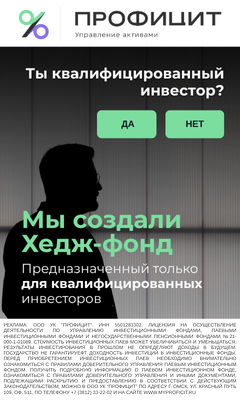Спектакль Евгения МАРЧЕЛЛИ «Чайка. Эскиз» в омском театре драмы.
На берегу озера с детства живет молодой человек, любит озеро и свободен. Но случайно прилетела чайка, увидела и погубила его...
Чайка – неприятная птица. Орет, как будто ребенку сворачивают шею. Питается живой рыбой. Эдакий «помойщик, крыса с крыльями, птица, которая за то, чтобы выжить, готова сожрать все вокруг» — так заявил на пресс-конференции в Омске Евгений МАРЧЕЛЛИ.
Спектакль начинается с белого коня, верхом на котором Нина, в капюшоне, с рюкзачком, неспешной рысью кружит по сцене. А появляется она перед Костей Треплевым, запыхавшаяся, с кровавой царапиной на лбу. С таким же оцарапанным лицом Заречная изображена в бумажной программке. Но царапины эти – из другой, параллельной реальности, результат события, которого в мире марчеллевского спектакля не было.
В первоначальном замысле после открытия занавеса на зрителя «во весь опор летит на коне Нина по ночному лесу, изрезанная, в крови вся, потому что когда ты ночью по лесу фигачешь на лошади, то ты ветками весь исхлестан, она летит успеть, она убежала из дому, сорвалась и хочет попасть на спектакль, — рассказал МАРЧЕЛЛИ. — Мы хотели, чтобы она галопом фигачила на коне. И заказали большую такую беговую дорожку, конь привязывается жестко, чтобы не соскочил, дорожка разгоняется и конь летит. У него пена изо рта. В Германии договорились достать, чертежи разработали, дикие деньги все это стоило». Но так не случилось: дорожку покупать не стали. А царапины на лице остались.
С такими царапинами в душе от другой, параллельной реальности живет большинство персонажей «Чайки». Они считают, что если бы в какой-то момент они поступили иначе, пошли по иной дорожке после развилки, их жизнь была бы совсем другой и стала бы ярче, насыщенее, значимее.. Маша страдает по Треплеву и ходит в черном: если бы он ей ответил, какая бы прекрасной была бы жизнь... Ее нелепо одетая мать вешается на шею Дорну и готова немедленно уйти к нему. Сорин мечтает жить в городе, а пребывает в деревне. В юности хотел жениться и стать писателем, а прослужил всю жизнь по судебному ведомству. «Хотел стать действительным статским советником и стал», — иронизирует доктор Дорн — постаревший Астров, лет 15 назад — кумир всех местных помещиц. Явно, статскосоветниковскость Сорина его задевает – о чем может жаловаться человек, заработавший такой высокий чин? Дорн устал, назойливость Полины Андреевной его утомляет, хотя на какие-то секунды еще впыхивает порох в пороховницах. Доктор живо интересуется в конце: талантлива ли Заречная, а в начале спектакля он – единственный, кого хоть как-то увлекла пьеса Треплева. «Если бы мне пришлось испытать подъем духа, какой бывает у художников во время творчества…», — тоже мечтает он. «Если бы, если бы…» Представьте Астрова, год, два, десять соблазняющего провинциальных бырынь все тем же засаленным проектом восстановления лесов. К 55-ти он станет уставшим Дорном. Доктор попытался разорвать шаблон и все свои накопления потратил на путешествия за границу между третьим и четвертым действием, но за два года растратил сбережения и вернулся ни с чем туда же, откуда начал. Ему завидует Медведенко со своими 23 рублями жалования на большую семью. Учитель тоже попытался вырваться из круга, женившись на Маше, но и после этого не приобрел ничего: ни денег, ни положения, ни уважения родителей супруги. То есть другая дорожка ведет все туда же, что и первая.
Управляющий Шамраев — рогоносец, типичный «поручик в отставке», живущий прошлым, — глуп и ничего не понимает в хозяйстве, даже выездных лошадей отправляющий в поле, в то время, как они для этой работы не приспособлены. Дочь и жена его не любят. Писатель Тригорин своей известностью уже «сытый по горло»: «У меня нет своей воли... У меня никогда не было своей воли... Вялый, рыхлый, всегда покорный». Собственное творчество для него повинность, а рыбалка – отдохновение и радость. Костя Треплев — так и не повзрослевший «мальчик», даже когда стал печататься в литературных журналах, но к концу пьесы понимающий, что из этого круга он уже никогда не вырвется.
Для них всех жизнь оказалась не той, о которой мечталось, думалось, предполагалось. Без взлетов и падений. Бессмысленной и беспощадной. Среди этих чучел чаек, до поры до времени была лишь одна чайка живая — центр, нерв, манипулятор этого маленького общества: Ирина Николаевна Аркадина. Она живет только настоящим. Ее приезды вносили хоть какой-то смысл в размеренный идиотизм их деревенской жизни. Были событием, освещающим последующие серые дни до очередного визита. В исполнении Анастасии Светловой она веревки может вить из этих мужиков, но очень боится, что ее время в силу возраста уходит и из-за этого нервничает, сатанеет.
Не зря же Заречная и Аркадина в какой-то момент глаза в глаза напротив друг друга открывают рты под крики чаек – будто это именно они кричат. Как соперницы за добычу.
Смотреть «Чайку» с галерки или даже из амфитеатра нет ни малейшего смысла, если вы не видите выражение лица, мимику. Например, когда Анастасия СВЕТЛОВА в роли Ирины Николаевны Аркадиной оглядывает в конце первого действия — удивленно вдруг осознав опасность — всех шестерых мужчин пьесы, как канатом притянутых к краю сцены вслед уходящей в глубину зала Нине. «Молодой девочке» — как подчеркнуто в списке действующих лиц театральной программки.
Как неожиданно Нина из запинающейся, путающей слова пьесы Треплева нимфетки превратилась циничную «детдомовку» (по выражению режиссера). Особенно в момент, когда оставшись наедине с театральной залом, просит закурить у зрителей первых рядов, а потом с кайфом затягиваясь сигаретой, пусть и не зажженной, присев на корточки по-пацански. Такая чайка и младенца заклюет, дай ей возможность. И — «в Москву, в Москву».
Каков же итог? Нина появилась через два года ярко и чрезмерно накрашенная. Она стала такой, что отец и мачеха «везде расставили сторожей, чтобы даже близко не допускать ее к усадьбе». Те черты, что были лишь намечены в первых трех действиях, гипертрофировались, вплоть до появившейся привычки схаркивать. Впрочем, какая она теперь на самом деле, мы сказать точно не можем. Она выстраивает свой последний разговор с Костей как роли, меняя эти роли-жизни чуть ли не поминутно: «Я — чайка... Не то. Я — актриса». Одна Нина в постели с Костей, другая — в капюшоне, по-сестрински обнимая, говорит ему: «Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле — все равно, играем мы на сцене или пишем — главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а уменье терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни». Разве может так говорить Нина-хищница-чайка?! Так может сказать только Нина, играющая, скажем, Соню из «Дяди Вани» — и та далее негромко, трагическим тоном и произносит монолог о «Людях, львах, орлах и куропатках». А, возможно, настоящая Нина — эта та, кто выкрикивает эти же слова после самоубийства Кости с помоста — жестко и яростно. Пока все они мечтали о жизни где-то там, жизнь прошла здесь.
Фото из архива ярославского театра драмы имени Федора Волкова